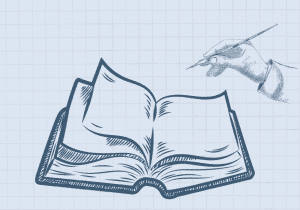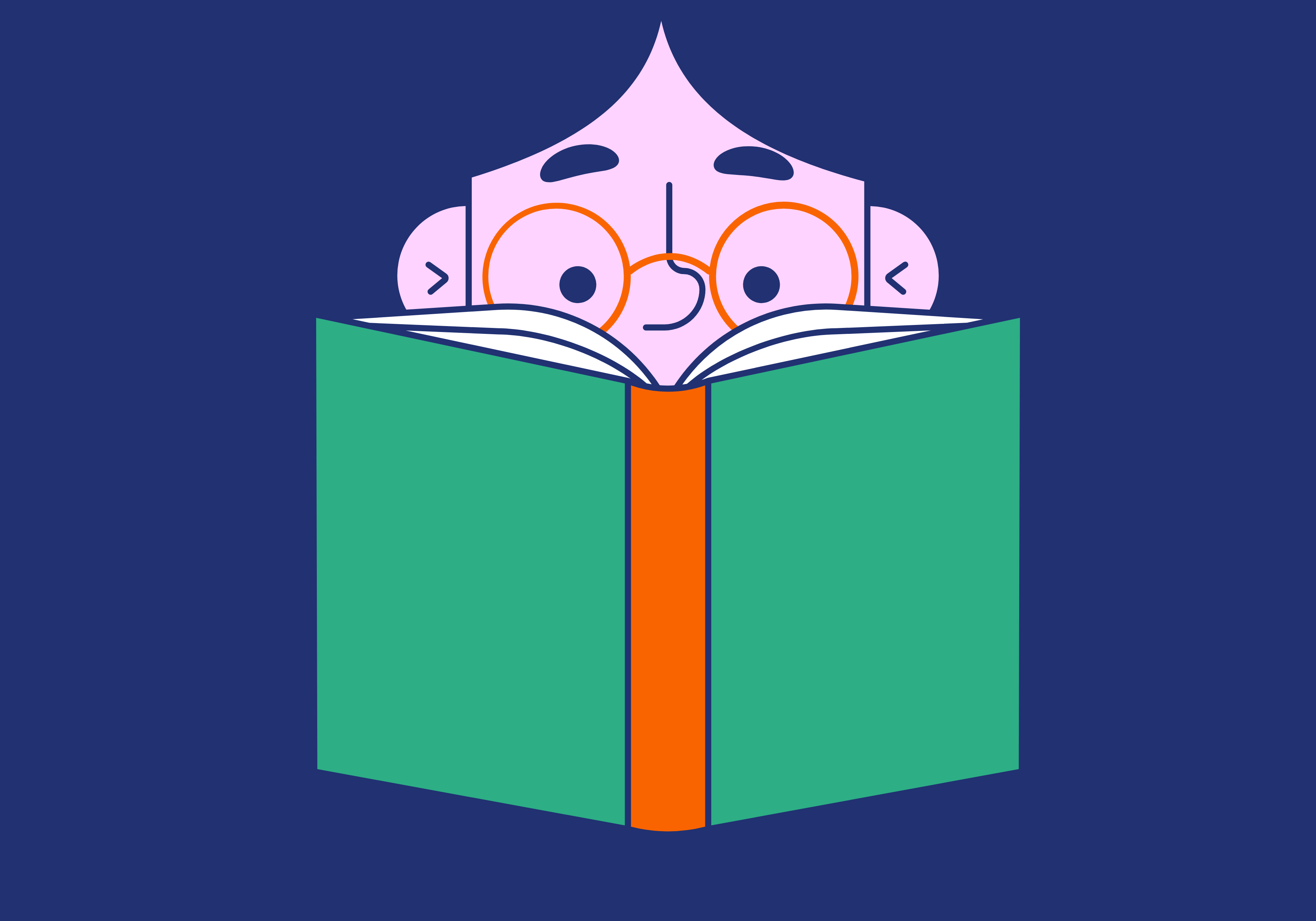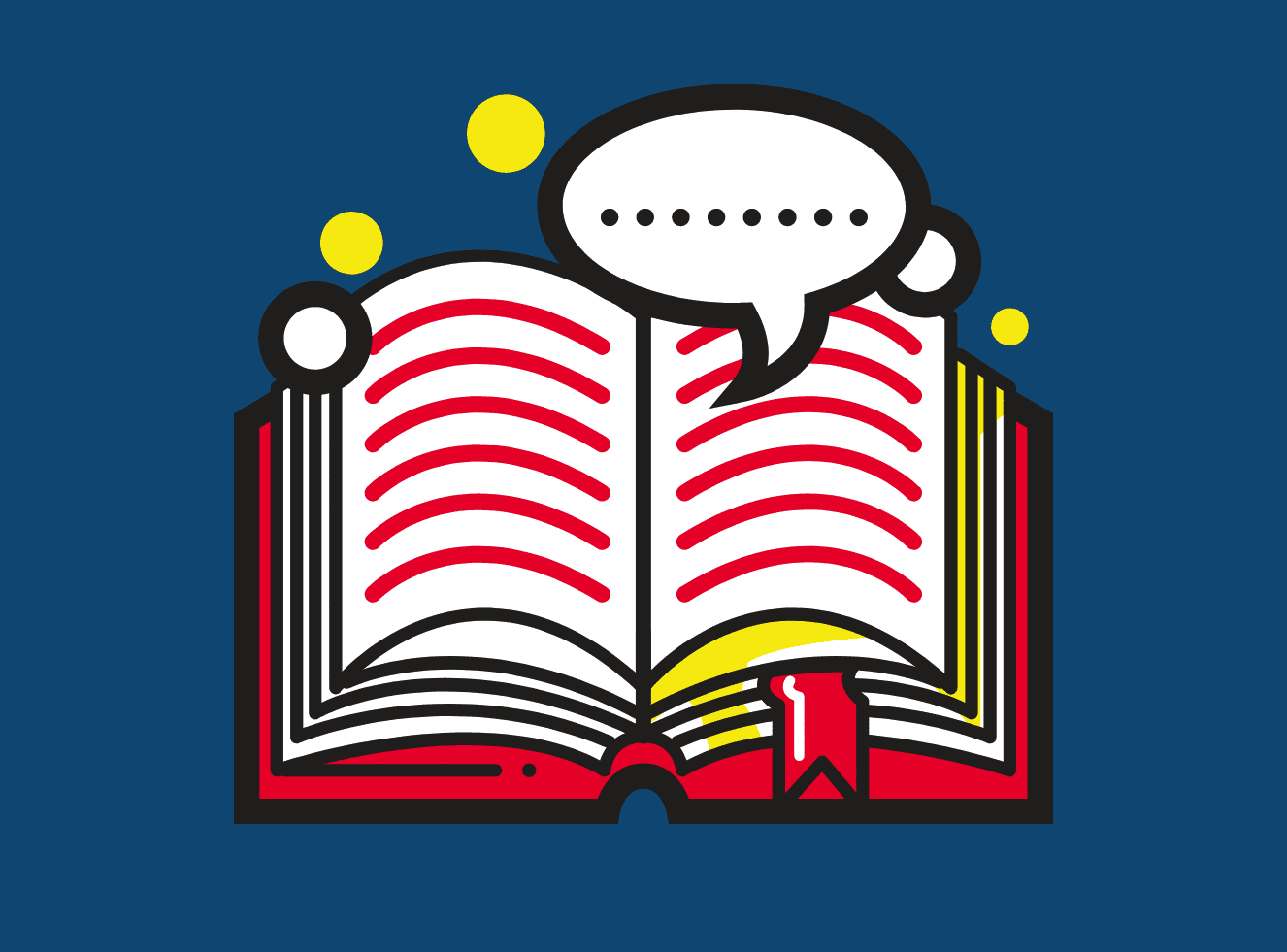БОРИС ГОДУНОВ
1. герой трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» (перв. редакция — 1825, последующие до 1830; первонач. названия — «Комедия о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»; вариант жанрового обозначения — драматическая повесть). Историческим прототипом героя Пушкина является Борис Федорович Годунов (ок. 1552-1605) — боярин (с 1580), выдвинувшийся в годы опричнины, назначенный умирающим Иваном Грозным одним из опекунов его сына, Федора Ивановича; фактический правитель страны в царствование последнего; с 1598-го — царь и великий князь всея Руси. При создании образа основным источником послужила «История государства Российского» Н.М.Карамзина. От сюда Пушкин почерпнул сведения о том, что погибший в Угличе малолетний царевич Димитрий был убит по наущению Годунова. Эту легенду, достоверность которой во времена Пушкина вызывала серьезные сомнения, поэт положил в основу трагедийной коллизии. Стремясь «воссоздать век минувший во всей его истине», Пушкин тем не менее творит художественный образ, в котором черты исторического лица нанесены на портрет, сложившийся в воображении поэта. Помимо реального прототипа у пушкинского Б.Г. имеется ряд литературных прообразов. Это прежде всего герои Шекспира — Генрих IV, Ричард 111, Король Джон, Макбет, Клавдий. В Б.Г. можно проследить следы персонажей классицистической трагедии (в частности, Гофолии Расина). Влияние последней особенно существенно с точки зрения художественной эстетики образа. На Б.Г. не распространяется пушкинская формула стиля этой трагедии: «стиль трагедии смешанный» (письмо к Н.Н.Раевскому, 1829). Весь образ Б.Г. выдержан в едином патетическом стиле, тогда как Самозванец олицетворяет «смешанный стиль», соединяющий высокое и низкое, патетику и буффонаду, стихотворные и прозаические диалоги, что вполне соответствует образу романтического героя, каким является этот персонаж. Б.Г. и Самозванец, будучи сюжетными противниками, одновременно выражают противоборство двух художественных направлений — классицизма и романтизма. (Последнее способно многое объяснить в оценках героев трагедии современной Пушкину критикой: почему, например, П.А.Катенин ополчался на Самозванца, а В.Г.Белинский был особенно резок в суждениях о Б.Г.) Образ Б.Г. присутствует во всех (двадцати трех) сценах трагедии, начиная с самых первых реплик, из которых выясняется, что, «затворясь в монастыре с сестрою, он, кажется, покинул все мирское». Об «ужасном злодействе», совершенном Годуновым, ведут диалоги Шуйский и Воротынский, Пимен и Григорий Отрепьев, правление Бориса обсуждают Шуйский и Афанасий Пушкин; о его свержении говорит Марина Мнишек «у фонтана» — и так далее до последних сцен, когда толпа штурмует Кремль, чтобы «вязать Борисова щенка», а потом, узнав о новом злодействе («Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом»), — «в ужасе молчит». Незримо присутствуя на всем протяжении действия, Б.Г. непосредственно появляется 'только в шести сценах трагедии. Его роль включает пять больших монологов и почти лишена диалогов. Последние остаются неразвернутыми, как бы обрываются на полуслове. Еще Н.А.Полевой не без иронии заметил, что пушкинский Б.Г. все время уходит. Ремарка «уходит» повторяется с редким постоянством. В первой своей сцене, после коронации, Б.Г, выслушав присягу бояр, уходит поклониться «гробам почиющих властителей России». В пятнадцатой картине просит беседы у Патриарха и сразу уходит. Услышав страшное обвинение Юродивого, опять уходит. В последней своей сцене сообщает Басманову, что «нужно поговорить», и уходит. Почти во всех случаях ремарка «уходит» возникает в момент, когда должен начаться диалог, способный прояснить нечто существенное. Уход буквальный (со сцены, из действия) символизирует психическое состояние Б.Г, его постоянное желание погрузиться в себя, спрятаться от посторонних глаз. Это, однако, не только состояние, но и положение Бориса, который, по его же словам, «отложил пустое попеченье»: став царем, по существу ушел от государственных дел и своих царских обязанностей; тем самым обрек себя на человеческое одиночество и социальную изоляцию. Б.Г. у Пушкина — носитель трагической вины. Его вина не в убийстве царевича Димитрия. Это скорее трагическая ошибка, гамартия, по терминологии Аристотеля. Вина же Б.Г. (вина социальная и онтологическая) в том, что он принял на себя роль, оказавшуюся ему не по силам, взялся за царский гуж и его не выдюжил. Узнав, сколь тяжела шапка Мономаха, столкнувшись с неблагодарностью народа, посчитал самым лучшим отложить попеченье, полагая это занятие совершенно пустым. За ошибку Б.Г. судит себя сам, в полной мере осознавая, насколько «жалок тот, в ком совесть нечиста». Однако вины своей перед народом Б.Г. так и не понял, расценив как безумство, «когда народный плеск иль ярый вопль тревожит сердце наше». За эту вину, за бессердечие власти судит Б.Г. народ и осуждает его на гибель, отказав в поддержке «мнением народным». В конечном счете Б.Г. расплачивается за то, что все время «уходит». Наступает момент, когда начинают уходить от него — все приближенные, самые доверенные ему лица, подобно Басманову. Однако этот повсеместный уход царя от бояр и народа, народа от царя, всех от всех тем гибелен, что оставляет государство московское в состоянии анархии, делая его легкой добычей для интервентов. Образ Б.Г. вызвал разноречивые толкования в современной Пушкину критике. Н.А.Полевой считал, что характеру героя недостает развития — показано одно лишь состояние предсмертной агонии обреченного на муки совести царя-преступника.
В.Г.Белинский усматривал в пушкинском персонаже «мелкий и ограниченный взгляд на натуру человека». Как «жалкую мелодраму» расценил критик мысль поэта — «заставить злодея читать самому себе мораль». Иную оценку образу дал Н.И.Надеж-дин: герой, показанный «под карамзинским углом зрения, никогда еще не являлся в столь верном и ярком очерке». А.А.Дельвиг отмечал в Б.Г. изображение «самых тайных изгибов сердца его». Лит.: Винокур Г.О. «Борис Годунов». Комментарии //Пушкин А.С. Поли. собр. соч. 1937. Т. VII; Ду-рылин С. Пушкин на сцене. М., 1951. С. 65-91, 134-162; Гуковский Г.А. Борис Годунов //Гуковский ГА. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 5-72; Непомнящий B.C. Наименее понятный жанр //Непомнящий B.C. Поэзия и судьба. М., 1987; Рассадин С. Два самозванца //Рассадин С. Драматург Пушкин. М., 1977. С. 3-58. С.В.Стахорский
2. Центральный персонаж трагедий «Смерть Иоанна Грозного» (1862-1864), «Царь Федор Иоаннович» (1864-1868), герой трагедии «Царь Борис» (1868-1869) А.К.Толстого. Образ Б.Г. проходит через всю трилогию, являясь основным связующим звеном грандиозного по масштабу исторического полотна. Уже в первой трагедии образ Б.Г. определяет одну из важнейших тем нравственно-философской проблематики триптиха Толстого — тему «окольного пути». В «Царе Борисе» она получает дальнейшее развитие и завершение. Пьеса начинается картиной полного торжества Б.Г, венчающегося на царство. Все славят правление мудрого и справедливого царя. Сам Б.Г. одержим одним лишь желанием — править во славу и во благо государства. В монологе, завершающем эту сцену, Б.Г. оправдывает окольный, кровавый путь, приведший его к власти. С прошлым покончено, ибо теперь «держит скиптр для правды и добра лишь царь Борис — нет боле Годунова». Б.Г. хочет царствовать, избегая крови и насилия; он мечтает о преобразовании государства. Но «прямой путь» для него, избравшего однажды окольный, невозможен. Причина его гибели — не в каких-то политических обстоятельствах, а в нем самом. Зерна злодеяний, посеянные в первой части трилогии, теперь прорастают и приводят героя к полной катастрофе. Объясняя финал «Смерти Иоанна Грозного», Толстой подчеркивал неотвратимость гибели Годунова: «Торжествует один Годунов и клеврет его Битяговский, но зритель предчувствует, что и им также придется пожать плоды посеянного ими семени». Образ Б.Г. становится наиболее последовательным воплощением одного из главных мотивов всей трилогии — мотива возмездия за совершенные преступления. От прошлого нельзя уйти. Над всеми начинаниями Б.Г. тяготеют его преступления: виновность в смерти Грозного, в смерти Ивана Петровича Шуйского и в самом страшном преступлении — убийстве царевича Димитрия. А.К.Толстой сосредоточивает свое внимание на внутренней душевной трагедии осознания тяжести греха и неотвратимости расплаты. Пушкинский Б.Г. тоже изнемогает под гнетом совершенного преступления, ибо он нарушил нравственный закон. Однако у Пушкина преступность Б.Г. не единственная причина его гибели. О существе трагедии своего героя Толстой высказался с предельной ясностью в одном из писем: «Бой, в котором погибает мой герой, это — бой с призраком его преступления, воплощенным в таинственное существо, которое ему грозит издалека и разрушает все здание его жизни. Я думаю, что я достиг этим большого единства, и вся моя драма, которая начинается венчанием Бориса на царство, не что иное, как гигантское падение, оканчивающееся смертью Бориса, происшедшей не от отравы, а от упадка сил виновного, который понимает, что его преступление было ошибкой. В финале трагедии герой Толстого приходит к осознанию того, что «от зла лишь зло родится» и оно ни человеку, ни царству «впрок нейдет». Исполнителями роли Б.Г. были М.В.Дальский (1898, Александрийский театр), Ю.М.Юрьев (1900, там же), А.И.Южин (1902, Малый театр). И.Б.Ростоцкий
3. В опере М.П.Мусоргского «Борис Годунов» (1868-1872), либретто которой основано на пушкинской трагедии, образ Б.Г. соединил черты героев Пушкина и Толстого. Это, однако, не контаминация, а совершенно оригинальный образ, отмеченный своеобразным видением трагедийного характера. Музыкальный образ Б.Г. предстает как бы в обратной перспективе: над мудрым честолюбивым правителем, государственную мысль которого заглушают угрызения совести, берет верх предающийся мучительному самосозерцанию царь-отец. Усилен контраст между внешним величием и душевной подавленностью: даже тронная речь оборачивается исповедальной молитвой. Композитор отчасти оправдывал и идеализировал своего героя. Поэтому во второй редакции он расширил эпизоды душевных борений Б.Г., так что основным содержанием оперы стал не столько конфликт между народом и государем, сколько трагические противоречия личности. Прародителем исполнительской традиции образа Б.Г. стал Ф.И.Шаляпин, впервые исполнивший эту партию в 1898 г. После Шаляпина Б.Г. Мусоргского обрел множество ярчайших исполнителей в лице А.С.Пирогова и М.О.Рейзена, И.И.Петрова и А.П.Огнивцева, Б.Христова и Н.Гяурова. И.И.Силантьева
- "Татарин", "зять Малюты" - говорит о нем Шуйский.
- По мнению Басманова, Б. "высокий дух державный";
по определению Афанасия Пушкина, "имеет умную голову"; он "смел", - "не так-то робок". Когда Шуйский возвратился с расследования дела об убийстве Димитрия и мог изобличить Бориса "единым словом", Г. его "смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной". "Он мне в глаза смотрел, как будто правый, - рассказывает Шуйский, -расспрашивал, в подробности входил, и перед ним я повторил нелепость, которую он сам мне нашептал". - "Так, решено, не окажу я страха", - говорит Б., оправившись от испуга, овладевшего им при неожиданной вести о "Димитрии", - но презирать не должно ничего". - "Как хорошо! Вот сладкий плод ученья!" - восклицает он, увидев географическую карту, которую сын его "изобразил так хитро на бумаге", и узнав от сына ее значение, - "Учись, мой сын! наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Учись, мой сын! И легче и яснее державный труд ты будешь постигать". - "Будь милостив, доступен иноземцам, - завещает он сыну, - доверчиво их в службу принимай".
Борис "с давних лет в правленьи искушен". Царь Феодор его "любил" и "дивно возвеличил", "на все глядел очами Годунова, всему внимал ушами Годунова", причем Г. сам сумел "и страхом, и любовью, и славою народ очаровать". - Царь, по мнению Г., должен быть "молчалив: не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому, как звон святой он должен лишь вещать велику скорбь или великий праздник"; привычка - "душа держав". Не надо "изменять теченья дел". При "вступленьи на престол" советует он сыну: "ослабь державные бразды, из рук не выпуская", "со временем и понемногу их вновь затягивай".
- "Безумны мы, когда народный плеск иль ярый вопль тревожит сердце наше". "Лишь строгостью мы можем неусыпной сдержать народ. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец, так думал и его свирепый внук". - "Он правит нами, - жалуется боярин Афанасий Пушкин, - как царь Иван (не к ночи будь помянут)". "Уверены ль мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает, тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы, а там, в глуши, голодна смерть иль петля. Знатнейшие меж нами роды где?.. Заточены, замучены в изгнаньи". "Если ты со мной хитришь, тебя постигнет злая казнь, - говорит Г. Шуйскому, - такая казнь, что царь Иван Васильич от ужаса во гробе содрогнется". "Мы дома, как Литвой, осаждены неверными рабами - все языки, готовые продать, правительством подкупленные воры. Зависим мы от первого холопа, которого захочем наказать", - говорит Аф. Пушкин. - "Нынче ко мне чем свет дворецкий князь Василья и Пушкина слуга пришли с доносом", - докладывает Борису Семен Годунов: - "Поутру вчера к ним в дом (к Пушкину) приехал из Кракова гонец и через час без грамоты отослан был обратно". Г. оставляет при выслушивании доносов и сына своего, будущего правителя, Феодора. - "Вот Юрьев день задумал уничтожить", - негодует на Г. Афан. Пушкин. "Не властны мы в поместиях своих, не смей согнать ленивца! Рад не рад - корми его! Не смей переманить работника! Не то в приказ холопий". - "А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванец им посулить старинный Юрьев день, так и пойдет потеха". - "Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его сыскать, но отложил пустое попеченье", - говорит сам Г. - "Живая власть для черни ненавистна - они любить умеют только мертвых". "Милости не чувствует народ: твори добро - не скажет он спасибо". - "Много, много он еще добра России сотворит", - характеризует деятельность Г. выдвинутый им, Басманов. - "Со строгостью храни устав церковный, - завещает Г. сыну. - Бог велик! Он умудряет юность, он слабости дарует силу..." - говорит Г., оставляя "неопытного" Феодора "в дни бурные". "О Боже, Боже! сейчас явлюсь перед Тобой, и душу мне некогда очистить покаяньем!" - тоскует он. Перед смертью принимает "схиму". - В то же время, по словам "стольника", - "кудесники, гадатели, колдуньи - вот его любимая беседа". "Все ворожит, как красная невеста". "Кудесники ему сулят дни долгие, дни власти безмятежной". - В семье своей, учит Г. сына, "будь завсегда главой; мать почитай, но властвуй сам собой. Ты муж и царь". - Одна из первых мыслей Г. при известии о самозванце - мысль, что дети его могут "лишиться наследства". - Феодор для Бориса - "дороже душевного спасенья"; чтобы дать ему последние наставления, Борис отлагает предсмертную исповедь. Он клянется "головою сына"; он "прочит его в цари", "с малых лет" заставляя "сидеть в думе", знакомя с ходом "державного теченья". "Царевич может знать, что ведает князь Шуйский", - заявляет он последнему. Но при известии о "Димитрии" Г. удаляет Феодора: "нельзя, мой сын, поди!" - "Я достиг верховной власти - чем? Не спрашивай", - говорит он сыну. - "Довольно, ты невинен, ты царствовать теперь по праву станешь, а я за все один отвечу Богу..." - "Он так еще и млад, и непорочен", - обращается Г. к боярам, умирая: "друзья мои! при гробе вас молю ему служить усердием и правдой". - "Люби свою сестру", - завещает Б. Феодору. "Что, Ксения? Что, милая моя? - обращается он к дочери. - Все плачешь ты о мертвом женихе? Дитя мое! Судьба мне не судила виновником быть вашего блаженства. Я, может быть, прогневал небеса, я счастие твое не мог устроить. Безвинная! зачем же ты страдаешь?" "О, тяжела ты, шапка Мономаха!" - восклицает Борис наедине с собой. "Ни власть, ни жизнь меня не веселят; предчувствую небесный гром и горе". - Умереть "мне подданным во мраке надлежало бы", - признается он перед Феодором. Для достижения верховной власти им пролита "кровь царевича-младенца", - говорит Шуйский. Борис "подкупал Чепчугова" для убийства, "подослал обоих Битяговских с Качаловым". По словам Пимена, "злодеи под топором покаялись и назвали Бориса". Перед выбором на царство Борис делал вид, что "его страшит сияние престола". "Не внемлет он ни слезным увещаньям, ни мольбам (патриарха и думных бояр), ни воплю всей Москвы, ни голосу великого собора". Шуйский характеризует так это поведение Г.: "Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина, и наконец, по милости своей, принять венец смиренно согласится". - Будучи "избран всенародно", он заявляет: "Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смиреньем". - Прошло шесть лет. "Шестой уж год я царствую спокойно, - говорит Б. - Но счастья нет моей душе. Не так ли мы смолоду влюбляемся и алчем утех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладаньем, уж охладев скучаем и томимся. Мне счастья нет". Мечты о благе и любви народа развеяны (выше). "Бог насылал на землю нашу глад; народ завыл, в мученьях погибая; я отворил им житницы; я рассыпал злато им: я им сыскал работы - они ж меня беснуясь проклинали. Пожарный огнь их домы истреблял; я выстроил им новые жилища: они меня пожаром упрекали. Вот черни суд. Ищи ж ее любви!" Ответом на его заботы были "злоба" и "клевета". - "Кто ни умрет, - я всех убийца тайный: я ускорил Феодора кончину, я отравил свою сестру царицу, монахиню смиренную - все я! Я дочь свою мнил осчастливить браком: как буря, смерть уносит жениха. - И тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца". "Ах, чувствую: ничто не может нас среди мирских печалей успокоить; ничто, ничто... едина разве совесть". "Здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветою; но если в ней единое пятно, единое случайно завелося, - тогда беда: как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упреком, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах... и рад бежать, да некуда... ужасно!" - "Тринадцать лет мне сряду все снилося убитое дитя - предчувствую небесный гром и горе". - "Да, да, вот что! теперь я понимаю", почему снился этот сон, говорит Борис, услышав впервые о "воскреснувшем имени" Димитрия. "Вся кровь" ему "в лицо кинулась и тяжко опускалась" при этом известии. - "Ух, тяжело. Дай дух переведу! - слыхал ли ты, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей законных?" Однако Борис скоро оправляется: "Но кто же он, мой грозный супостат? Кто на меня? Пустое имя, тень. Ужели тень сорвет с меня порфиру иль звук лишит детей моих наследства? - Безумец я! Чего ж я испугался? На призрак сей подуй, и нет его". - "Но презирать не должно ничего". "Опасен он, сей чудный самозванец", - говорит Г. сыну перед смертью. "Он именем ужасным ополчен - повсюду им разосланные письма, - говорит Борис в Царской Думе, - посеяли тревогу и сомненье; на площадях мятежный бродит шепот, умы кипят. Их нужно остудить. Предупредить желал бы казни я". Борис "удалился в печальные свои палаты, грозен и мрачен". - "Ждут казней", - говорит Хрущов. "Но недуг его грызет". "Недавно двух бояр казнил за то, что за столом они твое (Самозванца) здоровье пили тайно". "О тебе там говорить не слишком нынче смеют, - рассказывает пленник Самозванцу. - Кому язык отрежут, а кому и голову. Такая, право, притча, что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты. На площади, где человека три сойдутся, - глядь, лазутчик уж и вьется. А государь досужною порою доносчиков допрашивает сам". - "Я ныне должен был восстановить опалы, казни", - признается Борис пред смертью сыну. "Передо мной они дрожали в страхе. Возвысить глас измена не дерзала". "Полно, пора смирить безумца!" - объявляет Г. Царской Думе при вести о походе Самозванца. "Мне свейский государь через послов союз свой предложил; но не нужна нам чуждая помога: своих людей у нас довольно разных, чтоб отразить изменников и ляха. Я отказал". "Поезжайте, ты, Трубецкой, и ты, Басманов; помощь нужна моим усердным воеводам". - Но затем Борис отзывает Басманова, "наградив его заслуги честью и золотом". "Басманов в думе теперь сидит", - говорит пленник. "Он в войске был нужнее", - замечает Самозванец. После поражения "под Северском" Борис "очень был встревожен" и "Шуйского послал начальствовать над войском" вместо раненого Мстиславского. После победы Борис говорит: "Он побежден, какая польза в том? мы тщетною победой увенчались: он вновь собрал рассеянное войско". "Нет, недоволен я" героями нашими, и тут - "мысль важная родилась" в уме Г.: он решает "презреть ропот знатной черни и уничтожить гибельный обычай" "местничества". - "Пошлю тебя начальствовать над ними, - говорит он Басманову; - не род, а ум поставлю в воеводы; пускай их спесь о местничестве тужит". Смерть Г. не дала ему времени "сломить рог боярству родовому". - Умирая, Борис завещает Феодору: "Басманова пошли" начальствовать над войском и "с твердостью снеси боярский ропот". Но Басманов, "возвеличенный" Феодором, согласно завещанию, "предал" его. "Народ и мы погибли без тебя", - говорит Феодор умирающему Борису.
Критика.
По мнению Белинского, у Г. "был только ум и даровитость, но не было гениальности, - тогда как судьба поставила его в такое положение, что гениальность была ему необходима. Будь он законный, наследный царь - он был бы одним из замечательнейших царей русских: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформатором и оставалось бы только хранить statu quo, улучшая, но не изменяя его, - а для этого и без гениальности достало бы у него ума и способности - и он много сделал бы полезного для России. Но он был выскочка (parvenu) и потому должен был быть гением или пасть - и пал... Ведя Русь по старой колее, он сам не мог не споткнуться на той колее, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видела его боярином прежде, чем увидела царем своим. Чтоб утвердиться самому на престоле и упрочить его за своим потомством, - ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести в ее жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, никакого принципа. Он был только умнее своего времени, но не выше его".
"У великого человека и сердце великое. Идя своей дорогой и опираясь на свою силу, он ничего не боится; он разит своих врагов, но не мстит им; в их падении для него заключается торжество его дела, а не удовлетворение обиженного самолюбия. Петр Великий умел карать врагов своего дела и умел прощать личных врагов, если видел, что они ему не опасны. Его кара была актом правосудия, а не делом личного мщения, и он карал открыто, среди белого дня, но не отравлял во мраке; приняв публично донос, публично исследовал дело и публично наказывал, если донос оказывался справедливым. Когда бунт стрелецкий заставил его воротиться из путешествия - кровь стрельцов лилась рекой в глазах грозного царя, и он не боялся показаться тираном, потому что не был им. Не так действовал Годунов. Сперва он крепился, надеясь лаской и милостью обнаружить тайных врагов и прекратить неблагоприятные о себе толки; но, видя, что это не действует, - не вытерпел, и тогда настала эпоха террора, шпионства, доносов, пыток и скоропостижных смертей... У Годунова не было великого сердца, и потому он не мог не мучиться подозрениями, не бояться крамолы, не увлекаться личным мщением и наконец не сделаться тираном. Словом, он был только замечательный, а не великий человек, умный и талантливый администратор, но не гений. Итак, верно понять Годунова исторически и поэтически - значит понять необходимость его падения равно в обоих случаях - виновен ли он был в смерти царевича, или невинен. A необходимость эта основана на том, что он не был гениальным человеком, тогда как его положение непременно требовало от него гениальности". (Белинский. Соч. т. VIII).