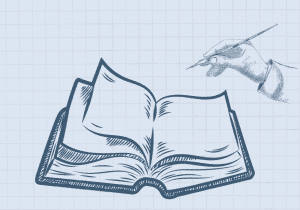«Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт». «Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись "юнкерсы”. Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана – четкой и торжественно-напряженной, как на параде».
«Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди – и уже недалеко – должен быть фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов...»
«Внезапно рота встретила красноармейцев с пулеметами в руках. Капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:
—Что за подразделение? Командира ко мне!
Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распущенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно». Потом один из красноармейцев наклонился к дыре в скирде и сказал: «Товарищ майор, там...»
«Из дыры выпрыгнул человек в короткополом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат – рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку, – наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.
—Отставить! – угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. – Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.
Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне.
Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции – "прячут удостоверения” – и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.
Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться».
Однако капитан чувствовал себя неловко. Ведь инцидент произошел на виду у курсантов. Поэтому капитан хотел сделать что-нибудь, «что возвратило бы и поставило его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка:
—Кухню замаскировали?
Майор понял все, но примирения не принял.
—Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! – указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка. Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:
—А мы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?!
Курсанты влились в пехотный полк, который был сформирован из московских ополченцев. Капитан Рюмин встретился с измученным подполковником. Тот сразу спросил: «Двести сорок человек? И все одного роста?» Капитан Рюмин ответил: «Рост сто восемьдесят три».
Подполковник спросил про вооружение. Капитан Рюмин ответил, что у каждого есть самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.
Подполковник с благодарностью воспринял эту новость. Но капитан Рюмин недоумевал, что рота не получит хотя бы несколько пулеметов.
Подполковник ответил, что кроме патронов и кухни, нет ничего!
Рота прошла еще немного. Они остановились в деревне, где был центр ополченской обороны, здесь же пролегал противотанковый ров.
На окраине деревни было заброшенное кладбище. Капитан привел сюда четвертый взвод. Он сказал, что здесь подходящий участок и нужно рыть окоп. «Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку» (которая находилась здесь же).
Командир взвода сказал капитану, что рыть окоп нечем. Капитан рассердился за такой неуместный вопрос и приказал, чтобы окоп был готов к шести часам. В назначенный срок окоп был готов. Однако не удалось сделать ход в церковь. Это было связано с тем, что «двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю». Сначала хотели проделать в фундаменте брешь, но потом решили дождаться разрешения капитана.
По дороге в одном из сараев Алексей Ястребов «увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и нескольких курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились». Алексей крикнул: «Здравия желаю, товарищи тыловики!»
Появился капитан. Он сказал: «Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий – вторым, а первый – последним».
Капитан поинтересовался у Алексея, готов ли окоп. Ястребов сказал о фундаменте. Капитан не разрешил его подрывать. Это было связано с необходимостью беречь гранаты. Алексей встретился с командиром второго взвода Гуляевым, который был соседним с взводом Ястребова. Они поговорили, потом пошли по улице. Была прекрасная погода. Снег переливался, сияло солнце. Вдруг появились самолеты.
«Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем».
Ястребов и Гуляев пошли по взводам. «Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало».
Самолеты пролетели мимо. Бомбежки не было.
Однако через час над деревней прошла новая группа самолетов. Потом самолеты проходили снова. В деревне было много женщин и детей. Их нужно было прятать в убежище. «Землянки для них предполагалось рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах».
Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп». Во второй половине дня от опушки леса появились люди. Это были свои.
Они сказали, что вышли из окружения. Их отвели к капитану. Один из бойцов сказал, что он генерал-майор Переверзев, командир дивизии. Однако он был в шинели без петлиц. Никто ему не поверил, выглядел он странно. Потом капитан Рюмин сказал, что это был простой боец, просто от контузии он тронулся умом.
«Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.
– Всех в обход! – сказал капитан. – В разговоры ни с кем из них не вступать!
Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в четырех километрах правее и сзади нас».
Капитан Рюмин сказал Алексею Ястребову: «Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич. Кажется, на нашем направлении прорван фронт...» Капитан также сказал, что «ночью за ров пойдет разведка». Капитан сказал, что за кладбищем нужно выставить усиленный пост.
«До полночи от невидимого леса, мимо деревни прошли два батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени».
«В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность.» «Наверное, вернулась разведка!» – подумал Алексей.
Вдруг появился незнакомец. На вид ему было лет сорок. У него было поранено ухо. Он спросил о генерале Переверзеве. Один из курсантов сказал, что тот был «в красноармейской пилотке... и в шинели без петлиц».
«Да ну? – бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: – Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит... Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь... А он вроде того мужика – воз под горой лежит, зато вожжи в руках...»
Алексей Ястребов приказал прекратить разговоры и разойтись по местам. Курсанты выполнили приказание. Незнакомец заговорил с Алексеем.
«Тут горе вот какое, товарищ командир, – виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. – Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе... Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает – окопы распаханы, люди размяты... Что делать-то будем, а?» Алексей предложил ему направиться в госпиталь. Но человек сказал, что ухо заживет и без лечения. Он спросил, можно ли ему остаться здесь. Но Ястребов сказал незнакомцу, что здесь ему оставаться нельзя.
«Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.
– Ну что ж... Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! – стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа».
Вечером из леса появились два грязно-серых броневика.
«Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал? – безразлично. Но какие же эти. Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять?» «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому...»
Алексей два раза выстрелил в броневики. Следом за ним стрелять начал взвод. «...Броневики развернулись и помчались к лесу». Только теперь Алексей понял, что стрелять было нельзя. Курсанты были воодушевлены, они не понимали ошибочности совершенных действий.
«Сейчас нам капитан не так за это врежет, – сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета.
– Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.
—Ну и черт с ними! Пускай знают!
—Что "знают”? – невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.
—А все! – вызывающе сказал помкомвзвода. – Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!»
Через некоторое время во взвод пришел политрук роты Анисимов. Он был больным человеком, у него был катар желудка. Курсанты это знали и невольно жалели его. Анисимов спросил о случившемся. Алексей ответил ему, как все было. «Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки – деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи».
Испортилась погода. «На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному – то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо, – далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо».
Вдруг «высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколеблемо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чохом образовались еще два дегтярных пятна».
«И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделать, чтоб не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все – мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...»
Линия взрывов медленно подвигалась ко рву. Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, щуром, – до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим нелетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня... В меня! В меня!» Он знал, – а может, только хотел того, – что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.
На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой не слыханным голосом Алексей пропел:
– Взво-о-од! Поодиночке-е...
Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным – резким и испуганно-злым – Алексей крикнул: «Отставить!» – и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?»
Алексей пытался прежде всего убедить себя в том, что действует правильно. Но вместе с тем Алексей понимал, что «без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны».
Вдруг Алексей услышал, как Анисимов зовет его. Он побежал на голос, «сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его <Алексея> медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.
—Отре-ежь... Ну, пожалуйста, отре-ежь... – Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову.
Первое, что осознал Алексей, это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели: они всегда мешают ползти... Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова – на мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого... "Это "они”... – понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отводя глаза:
—Подожди тут! Подожди тут. Я сейчас...»
Ястребов бросился по окопу. Он сам не сознавал, что нужно делать. Окоп накрыло несколькими минами. Алексей упал. Но уже перед этим внезапно осознал, что не встретил своих курсантов. Он увидел нишу, протиснулся в нее. В этот момент Алексей понял, где взвод – «они сами ушли... по ходам сообщения». Алексей подошел к церкви. Здесь были курсанты.
«По местам! Бегом! – отчужденно и властно крикнул он. – И без моего приказа ни шагу!» «Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду...»
Обстрел прекратился. «Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых – все в спину – оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать».
Алексей спросил, могут ли раненые дойти до КП. Они могли. Лежачим был только один. Ястребов приказал отнести его к санинструктору.
«...В воздухе послышался знакомый ведьмин вой...». Снова начался обстрел.
Алексей «слышал: в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе». «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»
«Но курсанты били не вверх, а по горизонту.
– Прекрати-ить! Прекрати-ить! – на бегу закричал Алексей. Помощник с лету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.
Все повторялось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? Наверно, надо первым... это ж все равно что при атаке... А может, последним? Как при временном отступлении?..»
Алексей «скомандовал взводу поодиночный побег из смерти... Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог – они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего, Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает, ему что-нибудь сказать курсантам...»
«До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп».
Помкомвзвода предложил выбить фашистов. Алексей сказал, что нет оружия. Помкомвзвода Будько сказал, что есть бронебойно-зажигательные патроны. Алексей сердито ответил, что это сделать невозможно. «Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты». Погибли шестеро курсантов и политрук Анисимов.
«Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью». «Танки накапливаются. КВ, может. Этих нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать! Мы бы "их” пошшупали!.. Он так и подумал: "Пошшупали” – и повторил это слово вслух».
«Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.
Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступать.
Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка. Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор. Рюмин видел, что связной говорит правду, – он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.
С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой. В восемь сорок в поле за рвом появились броневики – разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов.. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.
В десять пятнадцать начался минометный налет.
В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.
Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.
В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности. Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы. И Рюмин понял, что рота находится в окружении».
Капитан понимал, что курсанты не смогут сразиться с танками из-за отсутствия боеприпасов. «В роте насчитывается двести двадцать винтовок.
Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием... "Атаки с тыла мы не выдержим, – думал Рюмин. – Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...”
И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой – это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устрашился невидимого врага в своем тылу».
Наступал вечер. «Мины изредка перелетали через окопы и громко садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... И разгромить, и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...»
Вечером Рюмин приказал, чтобы подготовили братскую могилу для погибших. Капитану пришла в голову мысль, что, когда наступит темнота, нужно двигаться по рву на север. И, таким образом, возможно, удастся выйти к своим. Убитых похоронили.
Рюмин сказал: «Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ командования уничтожить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть... По местам!»
«Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли». Рюмин считал, что выбрал единственное верное решение – «стремительным броском вперед». «Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спасаться, заранее устрашась. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим.
Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное – дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь...»
«Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом».
«Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта – своя тоже – вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины: смертью или победой».
Рота двинулась вперед. «Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал – голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением – как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками».
Взвод залег цепью, Алексей лежал в середине цепи. «Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором – волновался – сказал: "Внимание!” – и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени...». «В разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек». «Бой в селе нарастал с каждой минутой».
«Горело уже в разных концах села, и было светло как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочно забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской "новейшей” винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало».
Вдруг «навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клекотно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи.
Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог – для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться». Алексей понял, что смертельно ранил немца.
И вот все наконец закончилось. «Ну, Лешк! – закричал Гуляев, увидев Алексея. – В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!
Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь».
Пленных окружили и увели в глубину сада.
«Рота вступила в "свой” лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых, – спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом – рукоятки в животы – курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования, – "как из мешка!”».
Рота продолжала путь. «В одиннадцатом часу над ним неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченные черно-желтыми крестами». Рюмин трижды повторил команду не стрелять: «до вечерних сумерек было каких-нибудь пять часов – и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту.
– Вверх не смотреть! Не шевелиться! – застыв на месте, вполголоса кричал Рюмин». Гуляев попросил: «Товарищ капитан! Разрешите мне бутылкой его... Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!» Рюмин ничего не сказал.
Самолет сбросил листовки. Там предлагалось сдаться в плен. Транспортировка и присмотр за ранеными были поручены четвертому взводу, который не понес потерь в бою.
Появились немецкие самолеты. Самолеты начали бомбить. Алексей «видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты».
Алексей подумал о Рюмине: «Что ж он... его мать, завел, а теперь...» Через несколько минут «Алексей ни о чем уже не думал – тело берегло в себе лишь страх, и он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками, то куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и жженой шерсти; видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и закаливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами; видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то не выразимого словами; видел куски ноздреватого железа, похожего на баббит, смятые каски и поломанные винтовки... Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле и дважды возвращался в лес – в поле было страшнее: десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи».
Самолеты продолжали кружить, и поэтому «мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника».
«Курсант лежал лицом вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и, полузасыпанный, он казался мертвым. В падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем.
—Больше тебе некуда, да? – ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды. – Наложил или ранен? – уже миролюбивее спросил курсант, все еще не открывая глаз.
—М... к! – выдохнул Алексей. – Лежи тихо! Танковый десант!..»
«Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли: отрывисто-круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и неприближающимся». Алексей вдруг подумал об этом курсанте: «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник!» При этом Алексей никак не связывал себя с ним. Алексей попытался заставить курсанта встать и идти. Он крикнул: «Вставай! Там... Там все гибнут, а ты... Вставай! Пошли! Ну?!» Курсант ему ответил: «Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем... Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех... Вот увидите!.. Мы их потом всех, как вчера ночью!»
«Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище.
– Стреляй тогда! – тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт. – Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен...
И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант – Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно подавшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытавшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели, – курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. "Что это, страх или инстинктивное сознание пользы жертвы? – мелькнуло у Алексея. – Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен”». «Мы их потом всех, как вчера ночью!..»
«Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение, и, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта – самих себя, но еще до этого мига его мозг пронизала мысль: "А что же я сам? Я ведь об этом не думал! А может, думал, но только не запомнил того? Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было бы неправдой! Я ни о чем не думал!.. Нет, думал. О роте, о своем взводе, о нем, Рюмине... И больше всего о себе... Но о себе не я думал! То все возникало без меня, и я не хочу этого! Не хочу!..”» Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то безгласный вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет.
—Психический! – измученно прошептал курсант и лег».
Совсем рядом с ними остановились двое немцев. Вскоре они ушли. Все стихло. Наступила ночь, глухая и пустынная. Алексей и курсант шли вместе. Алексей не помнил фамилии курсанта, знал только, что он из третьего взвода. Они разговаривали о войне. Курсант говорил о том, что у них есть минометы, пикировщики, танки.
Алексей со злостью сказал, что придется доложить, как они воевали.
«Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант! – угрюмо сообщил курсант. – И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке...
—Один? А я где был? – парализованно остановился Алексей.
—Не знаю. Мало ли... Там кто-то все время стрелял из пистолета по "юнкерсам”. Кажется, сбил одного... Может, это вы были?
—Вот гад! – изумленно, самому себе сказал Алексей. – Рота погибла, а он... Вот же гад.
—Да кому это нужно, чтоб мы тоже там погибли? – так же изумленно, шепотом спросил курсант. – Немцам?
—Ты знаешь, о чем я говорю!
—Может, и знаю. Об НКВД, наверно?
—Вот-вот. И о своей и твоей совести...
—Ну, моя совесть чиста! – сказал курсант. – Я вчера ночью честно, один на один, троих подсадил, как миленьких... А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. Так что нечего...»
Они внезапно увидели своих и Рюмина. В живых остались немногие. Рюмин сказал, что нужно остаться здесь и немного обождать. Здесь были скирды, в которых и спрятались все присутствующие. Когда Алексей проснулся, «над лесом метались три фиалково-голубых "ястребка”, а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях четыре "мессершмитта”».
«Маленькие, кургузые "ястребки”, зайдя друг ДРУГУ в хвост, кружили теперь на одной высоте, а "мессершмитты” разрозненно и с дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу, и тот "ястребок”, который ближе других оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял».
—Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан? – возбужденно спросил Алексей.
Рюмин не обернулся: на лес убито падал, медленно перевертываясь, наш истребитель, а прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый, длинный и победно остервенелый «мессершмитт».
«Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся "ястребка” – один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад, второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно подтянул ноги и сел.
—Все, – старчески сказал он. – Все... За это нас нельзя простить. Никогда!..»
Алексей выкрикнул все то, что ему самому сказал курсант: «Ничего, товарищ капитан! Мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью! Мы их... Пускай только... Они еще не так заблюют!.. У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли! Ничего!..»
Рюмин ничего не ответил.
Курсанты сидели кружком у скирда. Перед ними была банка судака в томатном соусе. Они приготовили до начала воздушного боя. И сейчас еще не начали есть. Курсанты поделились едой с Алексеем и Рюминым. Рюмин отказался от консервов. Он был подавлен, лишен привычного самообладания. Вскоре он застрелился. Курсанты похоронили его со всеми полагающимися военными почестями.
Появились танки. Алексей «встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы, у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров, – Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц и, снова болезненно-остро ощутив присутствие тут своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно крикнул:
—Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз...
Он не забыл смочить бензином и поджечь паклю и швырнул бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и, поняв, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал, на лету обнимая голову руками, успев краем глаз схватить зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни.
—Ага, матери твоей черт! Ага!..
Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели, и успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей...
Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантами в лесу: на боку, подогнув к животу колени...»
Алексей почти ничего не осознавал. «Он забыл все, что с ним произошло, и не знал, где находится». «А затем пришло все сразу – память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга, и он с такой силой рванулся из завала, что услышал, как надломленно хрумкнул позвоночник и треснули суставы рук, метнувшихся вниз откуда-то сверху, от затылка». Курсанты погибли. Алексей остался один в живых.
«Алексей оделся и в десятый раз взглянул в сторону темного, неподвижно-приземистого танка. В нем все еще что-то шипело и трескалось, и в белесом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся трепетный черный сноп чада.
—Стерва, – вяло, всхлипывающе сказал Алексей. – Худая...
По-прежнему избегая глядеть на догорающие скирды, он отрыл бутылку с бензином, СВТ, рюминский пистолет и подолом шинели протер оружие». Потом Алексей забрал все имеющиеся боеприпасы и пошел от могилы по опушке леса.
«Было тихо и сумрачно. Далеко впереди беззвучно и медленно в небо тянулись от земли огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе, – оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость оттого, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк...
Подавленный всем этим, он шел и то и дело всхлипывающе шептал:
—Стерва... Худая...
Так было легче идти».