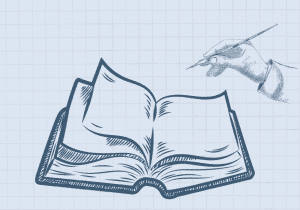Содержание:
↑ Проблемы русского языка в книге (аргументы для сочинения ЕГЭ)
↑ Канцелярит — "мёртвый" язык
Проблема: Замена живых слов бюрократическими штампами.
Пример из книги:
«Вместо "я решил" пишут "было принято решение", вместо "мы сделали" — "был осуществлен комплекс мероприятий"».
Аргумент для сочинения:
Канцелярит делает речь безликой и сложной. Например, в официальных документах и СМИ такие фразы создают барьер между автором и читателем.
↑ Заимствования: польза и вред
Проблема: Неоправданное использование иностранных слов.
Пример из книги:
«Слово "шокирован" уместно в светской беседе, но не в описании трагедии».
Аргумент для сочинения:
Заимствования обогащают язык, но их избыток (например, "фейк" вместо "ложь", "тренд" вместо "мода") может вытеснять исконно русские слова.
↑ Экология языка: как сохранить чистоту речи
Проблема: Засорение языка штампами, ошибками и жаргонизмами.
Пример из книги:
«Редакторы часто "исправляют" простые фразы на сложные, потому что так "солиднее"».
Аргумент для сочинения:
Чистота языка — это ответственность каждого. Как экология природы, экология языка требует бережного отношения.
↑ Красота и богатство русского языка
Проблема: Упрощение и оскудение речи.
Пример из книги:
«Короткие, точные слова (как у Чехова) лучше длинных и пустых».
Аргумент для сочинения:
Богатство языка — в его выразительности. Например, Пушкин и Толстой создавали шедевры, используя простые, но емкие слова.
↑ Вывод
Книга Норы Галь — отличный источник аргументов для сочинения ЕГЭ. Она учит:- Избегать канцелярита.
- Разумно использовать заимствования.
- Беречь чистоту и красоту русского языка.
- Темы ЕГЭ: "Русский язык", "Культура речи", "Язык и общество".
- Итоговое сочинение: "Как относиться к родному языку?"